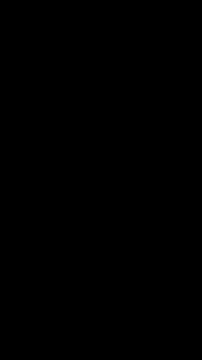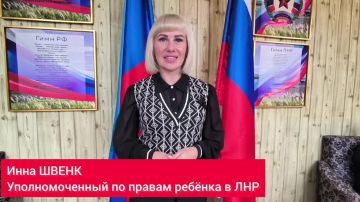Писатель Глеб Бобров: "Фронтовые истории отца можно пересчитать на пальцах одной руки"
Фронтовую историю своего отца в преддверии праздника Победы ЛуганскИнформЦентру рассказывает писатель и журналист, луганчанин Глеб Бобров.
ЧУГУННЫМ КАТКОМ
Великая Отечественная чугунным катком прокатилась по нашей семье. Никто из старшего поколения войну и послевоенное лихолетье не пережил – я рос без бабушек, дедушек. И мать, и отец - оба фронтовики. Познакомились они в эвакуации в Чувашии, когда семья Бобровых была распределена на постой в семью Тумановых. Первым погиб Михаил Борисович Туманов – мой дедушка. Он, будучи заместителем военкома чувашского Цивильска, имел бронь, но ушел на фронт, так как имел опыт Первой мировой и военной работы в Гражданскую. В январе 1942-го в ходе битвы за Москву он попал в госпиталь, который на следующий день был разбомблен. Общую могилу под Смоленском мы нашли в середине нулевых, когда появился сайт "Память народа" с оцифрованными архивами.
Военком, чувствуя себя обязанным, по сути, спас остатки семьи Тумановых. Он послал маму и ее сестру на курсы связистов, телеграфистов, потом медсестер, а по достижении 18-летнего возраста отправил на работу в трудовой фронт. Старший брат был направлен служить в погранвойска в Туркмению – на границу с Ираном.
После Советско-Японской войны, где отец воевал в составе шестой гвардейской танковой армии, он забрал бойца трудового фронта - мою будущую маму, увез ее в Красный Луч Ворошиловградской области, а сам поехал служить в Германию. Там в добавок к тяжелому ранению 1944 года и нескольким контузиям его еще и отравили добрые бюргеры, когда он, будучи комендантом небольшого городка, вместе с группой советских офицеров обедал в ресторанчике. Отец выжил, но остался инвалидом и умер на 54-м году жизни на моих глазах, когда мне еще не исполнилось и 14-ти.
ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВОЙНА С ЧЕЛОВЕКОМ
В виде иллюстраций я покажу четыре фотографии, запечатлевших отца от 1942 до 1945 года. Они очень наглядно показывают, что может сделать война с человеком за какие-то три с хвостиком лет.
Война всегда была важной темой в нашей семье, но при этом отец практически ничего не рассказывал, хотя был весьма заслуженным ветераном: два ордена Красной Звезды, медаль "За боевые заслуги", медали за взятие Бухареста, Будапешта, Вены, за освобождение Праги и, конечно же, за Победу над Германией и Японией. Это без учета юбилейных медалей и почетных знаков. Даже на прямые вопросы и просьбы он либо отшучивался, либо отвечал крайне скупо. Раскрылся он всего лишь несколько раз, что случалось на встречах и застольях. Грубо говоря, все его фронтовые истории можно пересчитать на пальцах одной руки.
Но одну из них, я запомнил хорошо, ибо он рассказал ее несколько раз на протяжении ряда лет. Видимо она запала ему в душу. Много лет назад я оформил ее в форму эссе – вставки в свой рассказ "Чужие Фермопилы", посвященного уже моей афганской войне. Приведу эту историю полностью, благо она короткая.
***
Донские степи, душное лето 1942-го. Силы Степного и Воронежского фронтов откатывают к Сталинграду. Сплошное отступление. Бегство. Отец - командир саперного взвода, вместе со своей частью идет в хвосте войск. Минируют отход. Мимо проходят отставшие, самые обессиленные. Того мужичка, как рассказывал, он тогда запомнил.
Сидит у завалинки загнанный дядька, курит. Взгляд - под ноги. Пилотки нет, ремня тоже. Рядом "Максим" (пулемет). Второго номера тоже нет. Покурил, встал, подцепил пулемет, покатил дальше. Вещмешок на белой спине, до земли клонит. Отец говорил, что еще тогда подумал, что не дойти солдатику. Старый уже - за 40. Сломался, говорит, человек. Сразу видно.
Отступили и саперы. Отойти не успели, слышат - бой в станице. Части арьергарда встали. Приказ - назад. Немцы станицу сдают без боя. Входят. На центральной площади лежит пехотный батальон. Как шли фрицы строем, так и легли - в ряд. Человек полтораста. Что-то небывалое. Тогда, в 1942-м, еще не было оружия массового поражения. Многие еще подают признаки жизни. Тут же добили.
Вычислили ситуацию по сектору обстрела. Нашли через пару минут. Лежит тот самый - сломавшийся. Немцы его штыками в фаршмак порубили. "Максимка" ствол в небо задрал, парит. Брезентовая лента - пустая. Всего-то один короб у мужичка и был. А больше и не понадобилось - не успел бы.
"Победители" шли себе как на параде - маршевой колонной по пять или по шесть, как у них там по уставу положено. Дозор протарахтел на мотоциклетке, что станица свободна, якобы русские драпают. Но не все...
Один устал бежать. Решил мужик постоять до последней за Русь, за Матушку. Лег в палисадничек меж сирени, приложился в рамку прицела на дорогу, повел стволом направо-налево. Хорошо... Теперь - ждать.
Да и ждал, наверное, недолго. Идут красавцы. Ну он и дал - с тридцати-то метров! Налево-направо, по строю. Пулеметная пуля в упор человек пять навылет прошьет и не поперхнется. Потом опять взад-вперед, по тем, кто с колена, да залег, озираючись. Потом по земле, по родимой, чтобы не ложились на нее без спросу. Вот так и водил из стороны в сторону, пока все 270 патронов в них не выплюхал.
Не знаю, это какое-то озарение, наверное, но я просто видел тогда, как он умер. Как в кино. Более того, наверняка знал, что тот Мужик тогда чувствовал и ощущал.
Он потом, отстрелявшись, не вскочил и не побежал. Он перевернулся на спину и смотрел в небо. И когда убивали его не заметил. И боли не чувствовал. Он ушел в ослепительную высь над степью... Душа ушла, а тело осталось. И как там фрицы над ним глумились он и не знает.
Мужик свое отстоял. На посошок... Не знаю, как по канонам, по мне это – Святость.
В тренде
В тренде
Популярные новости за сутки